Евгений ХудобинRUТОПИЯ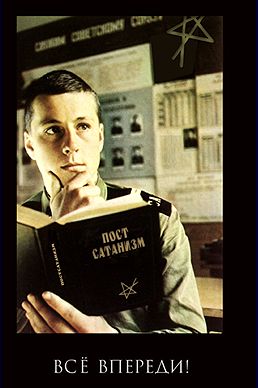 и завершение «великого поста-»Начнем с того, что RUТОПИЯ написана с использованием технологий интер- и, что наиболее важно, гипертекста, что, на наш взгляд, является сегодня, пожалуй, единственной по-настоящему эффективной возможностью для автора донести свой «мессидж» до читателя и вступить с ним в свободный диалог. Сам этот диалог – есть преодоление жестких рамок «классического» текста, этого достояния эпохи модерна, в котором автор со временем с неизбежностью превращался в раба своего текста, а читатель – в ничего не значащую статичную функцию-критика.1 Но куда важнее то, что это многомерное и подвижное пространство, созданное Вадимом Штепой из самых парадоксальных и, на первый взгляд, нестыкуемых друг с другом элементов, является прямой проекцией сетевой, ризоматической модели отношений новгородской традиции, и, позднее, традиции всего Русского Севера, выступающей в книге интегральным элементом всех авторских идей. Ведь именно Новгородская Республика, имея в своей основе глубоко сакральную, трансцендентную сущность раннего, пророческого христианства, не узурпированного еще мертвым телом жреческого догматизма2, сумела реализовать многие из тех отношений, которыми сегодня характеризуется эпоха постмодерна. Это, во-первых, гибкая, самоорганизующаяся сетевая структура, в которой отсутствует какой-либо самодовлеющий центр, по своей природе неизбежно выступающий в роли тирана по отношению к остальным субъектам в пределах доступного ему пространства. Субъекты же этой сети уникальны и определяют каждый свой собственный, непохожий ни на чей другой, «способ бытия», тем самым образуя сообщества, в которых максимальная свобода воли, причем воли «неотмирного» масштаба, есть фундаментальный жизненный принцип. Раннехристианские экклесии существовали именно по такому, ризоматическому принципу, и воплощали собой живой прорыв в «трансцендентное по отношению к существующему бытие». Только такой прорыв и способен генерировать настоящее историческое творчество и воплотить сущность утопии непосредственно здесь и сейчас. Эта сущность проявляется в том, что уникальные культурные, технологические, социальные проекты, динамически развиваясь и вступая в отношения с другими творческими проектами и идеями, создают активную мультикультурную сетевую среду, открытую для всех, кто обладает волей к творчеству и открытиям «не-от-мира-сего». Это ничем не ограниченное взаимодействие самых безбашенных и рискованных проектов, самых продвинутых и смелых умов. Причем в этом контексте русская северная цивилизация есть не что иное, как столь превозносимое сегодняшними неолибералами «открытое общество», только в его прямом смысле, свободном от современного дискурса с его нагромождением взаимообъясняющих абстракций и прочим «интеллектуальным онанизмом». Продолжая демократическую традицию греческого полиса, это общество, в отличие от попперовского гибрида антропарка и паноптикума, действительно является открытым в историческом смысле этого слова, а неповторимость и особый стиль жизни каждого его участника создает настоящее различие, в то время как дерридеанское различАние (differAnce), непременный атрибут современного «открытого» общества, есть просто результат стирания уникальной природы индивида искусственным множеством стандартных «-измов», поступающих из довлеющего над этим обществом центра. Такой расклад уже называется не естественной мультикультурностью, но симулятивной мультикультурАльностью, а такой постмодерн по сути своей не может претендовать ни на что большее, чем бесконечная запись на мертвое тело модерна. Однако сегодня параллельно этому происходит и совсем иной процесс: не только деконструкция прежних, централизованных структур, но и генерация новых, сетевых, причем это происходит абсолютно везде: от текстовых игр до политических и социальных отношений. Именно такая, сетевая модель наиболее оптимальна для рождения – или продолжения – настоящей традиции. Однако современные российские «традиционалисты» вряд ли поддержали бы нас в этом суждении: им почему-то свойственно представлять традицию как нечто статичное, являющееся собой не в силу своего внутреннего принципа, который легко меняет формы и структуры (новгородский архетип), но именно в качестве «неизменной» внешней атрибутики (унитарная Московия)3. Причем лучше всех это понимал сам Генон, у которого, по словам Вадима Штепы, «традиция имеет чисто трансцендентный характер и постигается в процессе «интеллектуальной интуиции», а виртуозность этой концепции состояла в том, что ему удалось интертекстуально и непротиворечиво синтезировать в ней самые фундаментальные символы и положения множества религий, мифологий и оккультных учений, создав тем самым магнетический образ «интегральной традиции», существующий как некий «отсутствующий центр».» При этом «он довольно язвительно отзывался о «традиционалистах», пытавшихся буквально реставрировать те или иные древности – они, по его словам, «не имеют ни малейшего представления об истинном духе традиции».» Штепа высказывает здесь, как нам представляется, довольно важную для осмысления философии Генона мысль о том, что «Генон в своих текстах предвосхитил стратегию ризомы, которая была открыта гораздо позже, и уже бесспорно постмодернистскими авторами – Жилем Делезом и Феликсом Гваттари». И действительно, читая геноновские тексты, невозможно не заметить некоторых общих методик с практиками постструктурализма. Так, «отсутствующий центр» здесь ассоциируется со «следом», а богатые на различные мистификации и «разоблачения» фрагменты как средство «замести», сдвинуть этот «след» из поля видимости профанов. Те, кто обладают «интеллектуальной интуицией», несомненно, увидят его, а остальные, выражаясь словами того еще постмодерниста Глеба Самойлова, пусть, «мучая зрение, ищут знамение и проклинают Ислам». И если уникальным русским воплощением ризоматической модели является новгородская традиция, то наш сакральный русский «след» – это мистический Китеж-град, экстерриториальный «отсутствующий центр», и отыскать его сегодня смогут лишь самые проницательные «следопыты», открывшие в себе свой собственный «внутренний Север». Постмодерн сегодня предоставляет таким «следопытам» все необходимые для этого оперативные инструменты, и здесь все зависит от их использования. Методология, направленная на сохранение нынешнего статус-кво, не приведет ни к чему иному, кроме как к продолжению бесконечной консервации: в таком случае весь богатейший инструментарий постмодерна сводится лишь к набору любопытных, но абсолютно бесполезных игрушек в руках скучающих интеллектуалов4. Методология, диктуемая «способом бытия» (который, согласно Хайдеггеру, есть единственно эффективный способ постижения истины) как «интеллектуальной интуицией», создает собственный уникальный миф, основанный на воле к «неотмирному» творчеству и великим открытиям. Наш «отсутствующий центр», наш Китеж-град и есть этот миф. Наиболее значительными в данном контексте оперативными инструментами постмодерна у Вадима Штепы являются современные взаимообусловленные процессы альтерглобализма, развития локальных идентичностей и мультикультурности, создания новых сетевых отношений между субъектами современного мира и тотальная его виртуализация (делающая виртуальные креативные проекты с каждым днем все более реальными, а «реальные» макеты пластмассового мира вытесняющая в область самих себя пародирующих симулякров), пользователи интернета как сообщество различия вместо потребителей масс-медиа как сообщества тотальных шизоидов (различАния), интенсивное сокращение длительности культурных форм и, как следствие, перемещение творческого акта из категории самоцели в категорию средства достижения «непосредственно открывшейся трансцендентности», и многие другие изменения в ИНУЮ сторону. Включение в свой «способ бытия» таких инструментов создает соответствующие «феномены»: от «высокой культуры», заархивированной в mp3-файлах The Orb и Transglobal Underground, до экономики образов и «великой судьбы русского мамонта», и от восточной метафизики в степных просторах пелевинского «Чапаева и Пустоты» до виртуального государства NSK и княжества Силандии. Все эти «феномены» выступают скорее как завершение постмодерна - слишком уж стремительно они врываются в новое, вернее сказать, сверхновое время. Они скорее уже некое прото-, чем пост-. И лишь тотальная деконструкция нынешнего безвременья способна освободить место для новой протоэпохи и протокультуры5. Деконструкция как деструкция пережитков эпохи модерна, призванных лишь бесконечно откладывать «конец истории» и препятствовать любому выходу за рамки своего «великого поста-», и в то же время деконструкция как реконструкция собственно русской «отсутствующей» традиции. Что, однако, подразумевает не симулирующую саму себя реставрацию древности в виде новой записи на давно уже мертвое тело, но рождение в новом историческом цикле великого мифа как воплощение русской утопии «внутреннего» Севера, не принадлежащего конкретной исторической эпохе, но воплощающегося лишь тогда, когда сама эта эпоха способна открыть себе свой сакральный смысл, разгадать свой уникальный трансцендентный код. Оперативные инструменты постмодерна и есть не что иное, как наиболее эффективные для данной эпохи декодировщики. Уникальный парадокс сегодня заключается в том, что различие пролегает в самом постмодерне как исторической эпохе и постмодернизме как культурной практике: существует как бы два постмодерна и, соответственно, два постмодернизма. Один из них – не более чем надоевшая уже всем и вся «игра в классики» на старом черно-белом поле модерна6. Другой – тоже игра, но игра, в которой подразумевается результат, и этот результат есть не что иное, как сверхновая эпоха воплощенной утопии. То же самое наблюдается и внутри самой утопии: различие здесь проявляется не между какими-то конкретными утопиями, но в самом способе их воплощения. А именно – когда та или иная утопия на определенном этапе своей реализации смещается в сторону плоской идеологии (а плоской является любая идеология), то она неизбежно превращается в свою противоположность – антиутопию. Что мы и могли наблюдать в двадцатом веке на примерах всех существовавших идеологий: и крайней левой коммунистической, и крайней правой фашистской, и «демократической» неолиберальной. Главный утопический принцип – трансцендентности по отношению к данному бытию и имманентности активной творческой воли – был подменен в них сугубо прагматическими целями и реактивной силой, направленной в итоге лишь на борьбу с виртуальным Великим Другим или же на «борьбу с собственным распадом», что в итоге одинаково приводит к неизбежной самопародии и вырождению этой антиутопии. И что сегодня представляет собою это унитарное татаро-московское государство, как не агонизирующее, но парадоксальным образом уже давно мертвое, тело, которое постоянной записью на самое себя своего экспансивного кода когда-нибудь и сотрет себя самое? Однако те, кто занят воплощением своей утопии уже сегодня, не должны ждать, когда существующая идеология деконструирует себя своими же методами, ведь, по Мангейму, утопия сама есть не что иное, как «трансцендентная по отношению к реальности ориентация, которая, преобразуясь в действие, взрывает существующий порядок». И этот взрыв – не реактивное, обусловленное феноменом извне, действие, но свободное, выходящее за все «за» историческое творчество, которое одним своим явлением взрывает сегодняшнее безвременье, и на месте закончившегося «великого поста-» воплощает уникальную утопию. Сверхновый Свет.
2005
Примечания:
1 Более подробное развитие эта мысль получает в нашем тексте «Принципы разработки гипертекстовых игр. Один из возможных вариантов».
2 То есть речь идет, по сути, о том, что жречество как социальный институт с момента своего возникновения и по сей день занималось ни чем иным, как записью своих бесконечно создаваемых законов и норм на мертвое тело подчиненной тексту христианской традиции. Раннехристианская (и единственно настоящая) традиция всегда соответствовала живому пророческому слову, «неотмирная» экзистенция которого просто несовместима с понятием раз и навсегда данного (тем самым a priori мертвого) текста. Отсюда и музыкальные инструменты в руках у первых пророков: истинная Благодать – это всегда именно активное, «танцующее» начало.
3 И Вадим Штепа основательно доказал абсолютную историческую нелегитимность этой Московии, образующей совершенно фиктивную сущность под названием «Российская Федерация».
4 Что мы в большинстве случаев и наблюдаем. Печально показателен тот факт, что французская философия постструктурализма, давшая в свое время начало действительно революционным фишкам в области современного западного мышления, после ряда своих автодеконструктивистских практик в итоге сама теряется в собственной интеллектуальной игре, а последняя становится чем-то наподобие игры «в кошки-мышки» с самим же собой.
5 Главная задача здесь заключается в том, чтобы найти выход из того состояния псевдоморфоза, в котором сегодня находится русская культура, а это возможно лишь с восстановлением глубинной связи времен, предполагающим рождение вневременного мифа в адекватных времени культурных формах. При том, что эти формы, будучи в основном заимствованными русской культурой извне, способны (при грамотном их использовании) трансформироваться в новые, имманентные культуре формы, проводя по завершении своей «миссии» автодеконструкцию.
6 Чему как нельзя лучше соответствует ставшая непреложной основой современного дискурса (причем как традиционалистского, так и постмодернистского) дихотомия Восток-Запад, преодоление которой Вадим Штепа видит в своеобразном коннективном синтезе обеих цивилизаций на Мысе Провидения, символически соединяющем Дальний Восток (Чукотка) и Дальний Запад (Аляска) в перпендикулярное по отношению к европоцентристской дихотомии пространство.
|