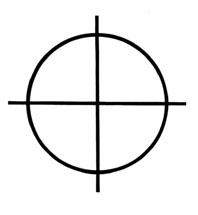
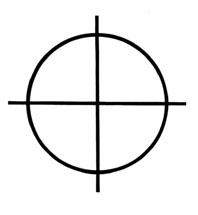
Поясним эпиграф - "невозможным" в конечном итоге является только то, что превышает все проявления Принципа Универсальной Возможности, то есть - сам Абсолют. Но знание об Абсолюте, в принципе, может стать центром любой субъективной реальности, сколь бы метафизически "мал" ни был ее статус. И в плотном мире речь может идти о любом человеке, далеко не являющемся центром своего уровня, Царем Мира, а располагающемся схематически на более или менее близкой этому центру периферии. Чем ближе эта периферия - тем глубже это знание. А следовательно - и воля к преодолению.
Поэтому, в продолжение схематических соответствий (метафизическое "зерно" Традиции - центр, ее символико-инициатические "средства" - радиус), здесь можно сказать, что периферией в данном случае является традиционная мифология.
Миф, в переводе с древнегреческого обозначает практически то же, что и традиция по-латыни - "предание". Но - с определенным оттенком: предание как сказание, повествование. Так, если Традиция в своей самой глубокой сущности представляет собой чисто метафизическое знание, то мифология - это живая форма Традиции, в которой это знание проявлено внешним образом. При этом оно еще не "затвердевает" в виде фиксированных канонов и догматов (об этом речь пойдет в следующей главе), но проявляется свободно и спонтанно, открывая для самой Традиции ее земной язык и ритуал. Можно сказать, что именно в мифе Традиция обретает свое конкретное время и пространство.
Циклически миф соответствует изначальному периоду, Золотому Веку, Земному Раю. Это - сакральное время, "время до времени", когда еще не вступили в действие неумолимые законы циклического нисхождения. (Однако, это время не является и вечностью, принадлежащей лишь Принципам.) Как писал известный исследователь мифологии Мирча Элиаде, в этом "изначальном времени история преодолевается", что сохранилось, кстати, еще в некоторых традиционных культурах, отвергающих идею "исторического прогресса". Иными словами, именно в мифе как раз и происходит то чистое центростремительное преодоление, не затмеваемое еще инерцией центробежного исторического становления.
Примечательно, что в специфически современном сознании само понятие мифа зачастую наделяется характеристиками инаковости, невозможности и нереальности, соответствующими именно Абсолюту. Однако, напротив, миф представляет собой самую высшую реальность, которая только и возможна в земном мире. "Миф - наиболее яркая и самая подлинная действительность," - писал знаменитый русский мыслитель А.Ф.Лосев. Он же сделал весьма важное замечание: "Только в мифе есть адекватное различение между истинным и кажущимся".
Однако, "это различение возможно только в имманентно-мифологических категориях. Иначе говоря, миф доступен восприятию только мифологическим же образом." Поэтому любые попытки подойти к мифу с рационалистических позиций - обречены на провал. Более того, само рационалистическое сознание, не умея объяснить мифологические сюжеты, и потому объявляя их "выдумкой" и "фикцией" (зачастую даже агрессивно - не просто признавая инаковость мифа), принципиально не способно предъявить никакого своего четкого критерия различения "истинного и кажущегося". А в таком агрессивном объявлении мифа фикцией по сути дела вскрывается лишь страх перед ним - как возможным носителем этого критерия.
Однако, если материалистические и рационалистические иллюзии циклически принадлежат еще стадии анти-традиции, то на этапе контр-традиции они сменяются новым интересом к мифологии. Но которая теперь "адаптируется" к ограниченному современному сознанию, уже не способному наяву пережить то, что составляло сущность традиционного мифа. Поэтому можно сказать, что МИФ на этом этапе превращается в СНЫ, психические иллюзии того, что некогда было духовно и телесно полноценной Явью. Вместо свойственной подлинному мифу внутренней воли к Невозможному, современными культуртрегерами "признаются" и "изучаются" лишь те или иные вторичные и внешне разнообразные мифологические сюжеты. Напоминающие некий навязчивый сон, где инерциально повторяются одни и те же картины. Таким образом, если де-мифологизированную эпоху материализма можно было уподобить "сну без сновидений" (Явь осталась в Золотом Веке, справедливо, кстати, называемом мифическим), то приходящий ей на смену период характеризуется появлением все более глубоких псевдо-мифологических снов, принимающих, наконец, один из них за пробуждение...